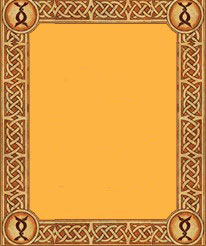Мудрец свободы
|
автор: Максим Большаков 22 ноября 2003 едва ли не все газеты и телеканалы вспомнили о сорокалетнем юбилее трагической гибели Джона Кеннеди. На этом фоне все как-то не вспомнили, что в тот же день человечество понесло, может быть, гораздо более серьезную потерю. В этот день мирно скончался известный христианский ученый и апологет Клайв Стейплс Льюис. Осип Мандельштам как-то уподобил поэта человеку, бросающему в море бутылку с посланием в надежде, что его кто-то прочтет и поймет. Этот «кто-то» не обязательно будет его соотечественником и современником. Поразительным образом и Клайв Льюис, почти забытый в своем отечестве, оказался гораздо ближе к современной России, чем к Англии середины прошлого века. Однажды мне довелось беседовать с одним известным консервативным англиканским богословом. Между прочим, зашел разговор и о популярности К. Льюиса на Западе. К удивлению всех, выяснилось, что мой собеседник ничего не слышал об этом человеке. В России среди людей, хотя бы немного интересующихся религиозными вопросами, подобная неосведомленность может вызвать только недоумение. К. Льюиса часто называют «моралистом», или даже «великим моралистом». В эпоху, когда почти все некогда важные понятия подверглись своеобразной духовной кастрации, это определение требует существенного уточнения. Льюис, как и любой другой последовательно христианский мыслитель, был бесконечно далек от проповеди того, что сейчас принято называть моралью в её «буржуазном» понимании как некого бесплатного приложения к прочим благам жизни, при правильном использовании весьма полезного для успехов в бизнесе и личной жизни. Христианская нравственность, а, в конечном счете, и святость, — это нечто совершенно противоположное. Она не сводится к исполнению длинного перечня предписаний и «полезных советов». Это — то, что позволяет человеку оставаться человеком. «Один лишь Дух, касаясь глины, творит из неё человека». Об этом чудесном превращении и свидетельствует христианство, о нем в меру своих сил пытался писать и Клайв Льюис. Будущий ученый, писатель и апологет стал христианином уже в достаточно зрелом возрасте, когда ему было около 30 лет. К этому времени он уже успел пережить раннее разочарование в своей детской вере, а за ним и многие годы осознанного атеизма; стал известным филологом, читавшим в Оксфорде курс истории английской литературы, пользовавшийся большой популярностью у студентов. «Свет Христов просвещает всех», но не каждый имеет мужество открыть ставни своего сердца. Особенно это трудно, когда ради внезапно открывшейся правды приходится жертвовать свои многочисленными убеждениями, полуправдами и предрассудками. В одной из сказок Льюиса «Колдунья, Лев и Платяной шкаф» есть хороший пример, подтверждающий эту истину. Силой волшебства её герои: Люси, добрая и честная девочка, и Эдмунд, напротив, тогда очень гадкий мальчишка, попадают в страну Нарнию, находящуюся за пределами обыденного мира. Рассказ о ней кажется настолько странным, что их брат и сестра готовы поверить скорее заведомому обманщику Эдмунду, из вредности и корыстных соображений отрицающему всё произошедшее, чем своей никогда не лгавшей сестре. Со своими недоумениями дети обращаются к профессору Керку, в доме которого и произошли эта история. Он разрешает их удивительно просто и убедительно: «существуют только три возможности: либо ваша сестра лжет, либо она сошла с ума, либо она говорит правду. Всякому видно, что она не сумасшедшая, значит, пока не появятся новые факты, мы должны принять, что она говорит правду». «Логика, чистейшая логика! Чему вас только учили в школе!» — восклицает профессор, впрочем, как мы знаем из сказки, сам он когда-то был в Нарнии, именно поэтому его суждения так мудры и логичны. Этот образ ученого, сочетавшего в себе живой опыт соприкосновения с иным удивительным миром, который открывается христианством, и предельную строгость и честность ума, во многом автобиографичен. Льюис поражает своей удивительной по нынешним временам способностью ясно говорить о самых сложных вещах, как писал А.Ф. Лосев, «не на каком-либо ином, а на человеческом языке». Как ни странно, именно из-за этой ясности и простоты современники находили Льюиса слишком банальным и старомодным. Впрочем, подобное обвинение вполне объяснимо ещё и по другой причине. Христианство на протяжении своей вот уже двухтысячелетней истории всегда оставалось учением слишком новым и необычным для «мудрости мира сего», которая «есть безумие перед Богом» (1 Кор. 3:19). Однако в разные времена от него пытались отмахнуться различными способами. Афиняне, выслушав проповедь апостола Павла, смеялись и говорили: «об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17:32), сейчас с той же легкостью мир готов заявить: «спасибо, мы это уже слышали». Льюис и не отрицал того, что он лишь вновь пересказывает давно известные истины. В подобном «консерватизме» мыслителя, однако, нельзя не увидеть неизмеримо больше смелости и свободы, чем у большинства его «прогрессивно мыслящих» современников. В философской притче Льюиса «Расторжение брака» есть весьма узнаваемый в современной церковной жизни образ «либерального богослова», который искренне считал себя бесстрашным борцом с отжившими предрассудками (в числе таковых он считал «догмат Воскресения») и косностью человеческого разума, а на самом деле «плыл по течению» общих мнений, срывал лавры славы и банально делал карьеру (в конце концов, он стал епископом). К. Льюис был одним из немногих людей своего времени, который умел и не боялся говорить на самые «неудобные» или кажущиеся современному человеку затасканными темы. Действительно, нужно мужество, чтобы при всех небывалых достижениях медицины писать о страдании и смерти; или накануне построения «земного Эдема» заикаться об аде, а в эпоху, заставшую сексуальную революцию, говорить о жертвенной любви и супружеской верности. И уж совершеннейшим мракобесием выглядят знаменитые «Письма Баламута», опровергающие распространенную романтическую легенду о бескорыстных «рыцарях зла», несущих некую демоническую свободу. Старый прожженный бес-искуситель в них так объясняет жертве мотивы своих действий: «Я люблю тебя, как лакомый кусочек, от которого у меня прибавится жиру… Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал… Это я называю любовью. А Христос, — продолжает бес, — любит и отпускает на свободу». В письмах опытного беса своему ученику приводятся и конкретные способы уловления человека в дьявольские лапы. Что ж, самыми важными всегда оказываются несвоевременные мысли. Однако, как мне кажется, к удивительным и радостным глубинам христианства в наибольшей степени приближаются не философские трактаты писателя, и даже не его замечательные притчи и аллегории, а книга, написанная в жанре, казалось бы, весьма далеком от апологетики. Я имею в виду знаменитые сказки Льюиса «Хроники Нарнии». Дело тут не только в том, что Льюис не был богословом в собственном смысле этого слова и почти всегда смиренно останавливался там, где кончалось «просто христианство» и начинались сложные догматические вопросы. («Просто христианство» Льюиса не нужно путать с экуменизмом: сам писатель сравнивал его с залом, через который нельзя не пройти на пути к истине, но в котором нельзя долго оставаться и тем более жить). Всё гораздо сложнее. Наверное, почти каждый человек, пришедший к вере, знает мучительное чувство жажды и, вместе с тем, бессилия сказать окружающим о своей невыразимой радости. Серебро Господа моего, серебро Господа, Разве я знаю слова, чтобы сказать о Тебе, — пел когда-то Б. Гребенщиков, еще не ставший тогда индуистом. Любые слова можно опровергнуть (а дьявол искусный диалектик), можно опровергнуть и опровержение, и т.д. и т.д. Подобная дискуссия будет вечной и к тому же совершенно бесполезной: самое важное в христианстве, без чего любые дальнейшие рассуждения лишаются смысла — то, что «Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:8), то, что в Нем истина и свобода (Ин. 8:32), и, наконец, то, что Он вообще есть и близок к каждому человеку, можно лишь пережить в своей собственной душе. Как это ни парадоксально, форма сказки, может быть, наилучшим образом подходит для разговора об этих истинах. Сказка, по своему изначальному предназначению, ставит человека перед лицом инобытия (будь-то «тридесятое царство» фольклора, «Зазеркалье» Л. Кэрролла или «Нарния» К. Льюиса). Вместе с тем, этот жанр, если он не переходит своих границ, не допускает профанации. Сказка всегда только «намек»: читателю изначально ясно, что за её чудесными образами стоит ещё более чудесная, не тождественная им реальность. В самих «Хрониках Нарнии» есть прекрасная иллюстрация ко всему сказанному выше. Герои одной из сказок попадают в мрачную подземную страну Подляндию, где они освобождают заколдованного принца. Её королева, злая колдунья, опасаясь открытого сражения, прибегает к помощи магии и доводов «чистого разума». Она возжигает некое колдовское зелье, и, когда кумар начинает действовать, берет в руки мандолину и под её психоделические звуки приводит многочисленные доказательства того, что её мерзкая и унылая страна — это единственное, что есть в этом мире и во все стороны от неё распространяется лишь бесконечная каменная толща (более чудовищна, пожалуй, только материалистическая картина мира, представляющая вселенную бесконечной бездной пустоты, в которой лишь местами понатыканы сгустки горящих газов, именуемых звездами). Логические доводы, кстати не лишенные остроумия, и усыпляющий дурман делают своё дело, герои начинают верить этому бреду и засыпать. («А теперь баиньки, — заканчивает колдунья, — и давайте спать без этих глупых снов!» — Призыв тоже весьма понятный: часто атеизм, делающий человека винтиком слепого вселенского механизма, или религиозная индифферентность являются лишь поводом снять с себя бремя свободы и ответственности). Лишь один из друзей с самым твердым характером, толстой кожей и трезвым рассудком почти по «Добротолюбию», не вступая в споры с колдуньей, голыми пятками затаптывает тлеющие угли. Сказки Льюиса действуют также отрезвляюще, как глоток свежего воздуха в облаке угарного газа. Они ставят всё на свои места. Льюис, как никто другой, сумел показать, насколько свободен, мужественен и прекрасен человек, когда он стоит перед лицом Божиим и живет по естественным для него законам веры, любви и чести. Дети из сказки «Лев, колдунья и платяной шкаф» услышав имя Аслана, испытывают разные чувства: «Питер почувствовал в себе смелость и готовность встретить любую опасность; Сьюзен почудилось, что в воздухе разлилось благоухание и раздалась чудесная музыка, а у Люси возникло такое чувство, которое бывает тогда, когда проснешься утром и вспоминаешь, что сегодня первый день каникул». «Первый день каникул» — едва ли не самый лучший образ для того, чтобы выразить ощущение радостной свободы от рабства греха и смерти, обретаемой во Христе. Истинная свобода, вместе с тем, не дается без борьбы и подвига, поэтому и героям Льюиса приходится побывать во многих приключениях и испытаниях. И наоборот, в «Хрониках Нарнии» видно и то, насколько жалок и несчастен человек, когда он раб своих низменных животных страстей. У Льюиса это показано почти физиологически. Эдмунда, околдованного волшебным рахат-лукумом, из желания насладиться которым он, в конце концов, предал брата и сестер, «сильно мутило», «его лицо раскраснелось, рот и руки были липкими от рахат-лукума». Незадачливый чародей-самоучка, дядя Эндрю, воспылавший страстью к злой колдунье, «моргал и нервно облизывал губы». У самой колдуньи после того, как она украла и съела яблоки бессмертия из сада Аслана, «губы были вымочены соком, почему-то очень темным, это было страшновато… она торжествовала, и все же лицо её было белым, как соль». Именно из-за ослепления собственными страстями и предрассудкам у многих героев Льюиса мутнеет рассудок: тот же дядя Эндрю вместо чудесной песни Аслана, творящей Нарнию, слышит «только рев и рычание», гномы, одурманенные собственным скептицизмом, попав в райский сад, думают, что они в грязном коровнике, а фиалки из него принимают за пучки навоза и соломы. Примеры подобного пленения и ослепления собственной гордыней есть и в других произведениях Льюиса, особенно в «Расторжении брака» и «Письмах Баламута». «Хроники Нарнии» насквозь пронизаны евангельскими истинами. Однако не надо думать, что они являются неким аллегорическим пересказом Евангелия. У них есть свой увлекательный сюжет. Своими сказками Льюис опровергает и еще один очень вредный современный предрассудок, утверждающий, что взрослые должны читать какую-то особую изотерическую литературу, непонятную детям. Я знаю многих достаточно продвинутых интеллектуалов, которые чуть ли по ночам взахлеб зачитывались «Хрониками Нарнии», вырывая их из рук своих собственных детей. При этом писатель не заигрывается. Его сказки всё-таки остаются сказками. Они не замыкают в придуманном автором или самим читателем мире. В сказке «Плавание на край света» есть образ страшного острова, где человек остается наедине со своими грезами и кошмарами. Это жуткое состояние стало едва ли не самым обычным для современного человека. Сказки Льюиса вырывают читателя из этой замкнутости в самом себе. Сам Аслан, расставаясь с детьми, возвращающимися домой из Нарнии, говорит, что они должны найти его в своем мире, но под другим именем. Царственный лев, творец Нарнии, одновременно грозный и бесконечно добрый, любящий жертвенной, но, вместе с тем, мудрой и требовательной любовью, и никогда, в отличие от своих властолюбивых врагов, не посягающий на чужую свободу, наверное, самый главный образ, который сумел создать писательский талант Льюиса. Некоторые страницы, посвященные ему, потрясают и переворачивают душу. Вместе с тем в нем нет пошлой сентиментальности, а есть всё та же, свойственная Льюису мудрость. Можно было бы бесконечно рассуждать о тех или иных евангельских истинах, стоящими за теми или иными образами писателя. Может быть, даже не они самое главное в сказках Льюиса. «Хроники Нарнии» дают вдохнуть свежий ветер страны, где «солнце смеется от радости», от которого человек обретает силы жить и свободу. |